Книги православия
Меню сайта
Категории раздела
|
Имяславие
[1]
Протиерей православный писатель Константин Борщ.
|
|
Имяславие 1 том
[61]
Открыто к прочтению всем православным
|
|
Имяславие 2 том
[67]
Открыто к прочтению всем православным
|
|
Имяславие 3 том
[61]
Открыто к прочтению всем православным
|
|
Имяславие 4 том
[82]
Открыто к прочтению всем православным
|
|
Имеславие 5 том
[66]
Открыто к прочтению всем православным
|
|
Имеславие 6 том
[65]
Открыто к прочтению всем православным
|
|
Имеславие 7 том
[70]
Открыто к прочтению всем православным
|
|
Имяславие 8 том
[61]
Открыто к прочтению всем православным
|
|
Имяславие 9 том
[117]
Открыто к прочтению всем православным
|
|
Имяславие 10 том
[92]
Открыто к прочтению всем православным
|
|
Имяславие 11 том
[94]
Открыто к прочтению всем православным
|
|
Имяславие 12 том
[103]
Открыто к прочтению всем православным
|
|
Имяславие 13 том
[104]
Открыто к прочтению всем православным
|
|
Имяславие 14 том
[0]
Открыто к прочтению всем православным
|
|
Православный сборник статей
[109]
автор Константин Борщ
|
Наш опрос
Статистика
Поиск
Друзья сайта
1 - 14 том Имяславие
| Главная » Файлы » Имеславие 5 том |
| 2016-04-23, 1:10 AM | |
Ведшiй себя по–хамски, вопреки всем принятым нормам, протопресвитер Армiи и Флота Г. Шавельскiй во время Высочайшей аудiенцiи в Ставке 6 ноября 1916 г. посмел советовать Государю[1]: "Пора, Ваше Величество, теперь страшная. Если разразится революцiонная буря, она может все смести: и Династiю и, может быть, даже Россiю. Если Вы не жалеете Россiи, пожалейте Себя и Свою Семью. На Вас и на Вашу Семью ведь прежде всего обрушится народный гнев. Страшно сказать: Вас с Семьей могут разорвать на клочки..." Незлобивый наш Государь на это ответил: "Ужель вы думаете, что Россiя для Меня не дорога!"[2] Принимая 30 декабря 1916 г. англiйского посла Дж. Бькженена, предложившего "уничтожить преграду" (т. е. дать так называемое ответственное министерство) и тем "заслужить доверiе народа", Государь сказал: "А не так ли обстоит дело, что Моему народу следовало бы заслужить Мое доверiе!"[3] Перед этими словами Царственных мучеников все мы одинаково безгласны: священники и мiряне, знатные и простые. Но тогда все было тщетно: что им был Царь или Царица, они и сами были с усами... И Царскiе слова были воистину гласом вопiющего в пустыне, в которую сразу же после отреченiя народа от Царя, закрепленного в Царской телеграмме "Начальнику Генерального Штаба", лукаво называемой с тех пор "Отреченiем" (чтобы еще раз переложить все на плечи Помазанника Божiя), неотвратимо превратилась Россiя. Прекратить все эти сплетни тогда было бы достаточно легко, если бы подавляющее большинство подданных Всероссiйского Императора было действительно таковыми не по одной лишь букве, то есть не распространяло бы эти мерзкiе сплетни и не слушало их, что, вообще–то говоря, присуще просто порядочным людям. И такiе люди, разумеется, находились. "...Из далекой Астрахани, — свидетельствовал Н. Д. Тальберг, — раздался мало кем замеченный архипастырскiй призыв замученного теперь большевиками епископа Митрофана, указывавшего на гнусность травли Той Женщины, Которая всю Себя отдала новой Родине..."[4] Архiепископ Митрофан (Краснопольскiй) был схвачен большевиками и расстрелян в Астрахани в застенках чека 6 iюля 1919 г., через год после убiенiя Царственных мучеников, за Которых пытался вступиться тремя годами ранее... А вот другой случай, о котором рассказала Государыня в Своем письме. Офицер 15–го гусарского полка, после раненiя находившiйся на излеченiи в лазарете Царицы, летом 1915 года "возвращался с юга, куда он ездил повидаться с своей матерью, в поезде услыхал разговор двух господ, говоривших обо Мне мерзости. Он дал обоим пощечины и сказал им, что они вольны жаловаться, если им угодно, но что он исполнил свой долг и что он точно так же поступит со всяким, кто осмелится так говорить. Разумеется, они были вынуждены замолчать. — Необходима энергiя и смелость, и тогда все будет хорошо". Но, видно, энергiи, как и порядочных людей, уже тогда было маловато... ...Даже самые близкiе к Ней, разве и они вполне понимали Ее? "Возможно, Государыня, — писала ближайшая Ее подруга Ю. Ден, — не сумела изучить склад ума русского крестьянина. Будучи безпристрастным наблюдателем, я склонна думать, что именно так оно и было. Когда Она надела платье со знаком Красного Креста, — символом Всемiрного Братства Милосердiя, простой солдат увидел в эмблеме Красного Креста лишь знак утраченного Ею достоинства Императрицы Всероссiйской. Он испытывал потрясенiе и смущенiе, когда Она перевязывала его раны и выполняла чуть ли не черную работу. Ему в голову не приходило, что Императрица — женщина, он видел в Ней лишь ослепительный, недоступный образ Монархини[5] Вот до чего дописались ближнiе и ближайшiе. Приведись, они бы и Самого Господа осудили за то, что Он снизошел до общенiя с блудницами... "Встав, как Главковерх, в ряд лиц высшего командованiя, — писал один из таких же "верных" генерал А. И. Спиридович, дерзая давать оценку действiям Царственных Супругов, — Государь сделался для общества, для толпы человеком, которого можно было критиковать и Его критиковали. С Главковерха критика перенеслась и на Монарха. О том, что Государя начнут критиковать, Его предупреждал мудрый граф Воронцов–Дашков, когда Государь обратился к нему за советом относительно принятiя верховного командованiя. Царица же, начав ухаживать за больными и ранеными, начав обмывать ноги солдатам, утратила в их глазах Царственность, снизошла на степень простой сестрицы, а то и просто госпитальной прислужницы. Все опростилось, снизилось, а при клевете и опошлилось. То была большая ошибка. Русскiй Царь должен был оставаться таким, как Пушкин изобразил его в своем посланiи к Императору Николаю Первому. Императрице же "больше шла горностаевая мантiя, чем платье сестры милосердiя", — что не раз высказывала Царице умная госпожа Лохтина... Но Их Величества, забывая жестокую реальность, желали жить по–евангельски"[6]. Вот так (с точки зренiя дiавола–искусителя) упрекали Их за то, что Они посмели возжелать положить душу Свою за подданных (ближних) Своих. Тем самым (вместе с Царственными мучениками) осужденiю подобных людей подвергся и Господь, Который предпочел Крест земному Престолу Царства Израилева. Куда им было понять слова Царицы, звучавшiе уже из заточенiя: "Готова мыть полы..." Их осудили и оболгали... Архивы в своих недрах до сих пор хранят открытки и письма Государю от граждан "свободной Россiи", отправленные в 1917 году. Из подобных писем мы не можем воспроизвести ни строчки. С полной ответственностью можем засвидетельствовать лишь то, что все самые гнусные надписи и рисунки, обнаруженные и зафиксированные впоследствiи следователями в Ипатьевском доме в Екатеринбурге, имеются уже здесь, в этой папке. И написано все это и нарисовано отнюдь не большевиками и не только, как принято говорить, "деклассированными элементами". 11 апреля из Тифлиса была отправлена открытка: известная фотографiя Государя в солдатской форме с винтовкой и полной выкладкой (Царь, заботясь о солдатах, проверял удобность нового снаряженiя). На обороте надпись: "За минованiем надобности возвращаю Ваш портрет по принадлежности"[7]. Открытка доплатная (посылавшiй хотел, чтобы Адресат оплатил полученное). А вот фотографическiй портрет Государя в конверте... Глаза Царя мученика выжжены папиросой. Вот фотографiя Государыни со следами таких же многочисленных прижиганiй. Царица мученица в платье сестры милосердiя... На груди белого передника — крест... Фотографiи Великих Княжен с гнусными надписями... "Сколько "избранных господ", — с горечью восклицает наш зарубежный соотечественник В. Криворотов, — сбежалось в те дни для "распятiя" Русского Царя и Его Семьи!"[8] Об учителях, наставниках и вдохновителях этой черни (в том числе великосветской и даже Великокняжеской) писал М. Горькiй: "В одной из грязненьких уличных газет некто напечатал свои впечатленiя от поездки в Царское Село. В малограмотной статейке, предназначенной на потеху улице и рассказывающей о том, как Николай Романов пилит дрова, как Его Дочери работают в огороде, — есть такое место: "Матрос подвозит в качалке Александру Феодоровну. Она, похудевшая, осунувшаяся, во всем черном. Медленно с помощью Дочерей выходит из качалки и идет, сильно прихрамывая на левую ногу...
Звучит оглушительный хохот". Хохотать над больным и несчастным человеком — кто бы он ни был — занятiе хам– [1] Позднее Государь отозвался о нем: «Еще рясу носит, а говорит Мне такiе дерзости». (Протопресв. Георгiй Шавельскiй. Воспоминанiя последнего протопресвитера Русской Армiи и Флота. Т. 2. С. 222. [2] Протопресв. Георгiй Шавельскiй. Воспоминанiя последнего протопресвитера Русской Армiи и Флота. Т. 2. С. 221. [3] Судьба века. Кривошеины. СПб. 2002. С. 277. См. также: Тихменем Н.М. Духовный облик Императора Николая Второго. Изд. 2. Отдела в САСШ Союза ревнителей памяти Императора Николая 2–го. 1952. С. 13–14. [4] Тальберг Н.Д. В свете истины // Двуглавы Орел. Вып 21. Берлин. 1/14.12.1921. С. 7. [5] Ден Ю. Подлинная Царица. Воспоминанiя близкой подруги Императрицы Александры Феодоровны. С. 116. [6] Спиридович А.И. Великая война и февральская революцiя. Т. 3. Нью–Йорк. 1962. С. 74. [7] ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Е. х. 2281. Л. 11. [8] Криворотов В. На страшном пути до Уральской Гогофы (Страшное иго). Мадрид. 1975. С. 241.
Святые мученики царица Александра и царевич Алексей ское и подленькое. Хохочут русскiе люди, те самые, которые пять месяцев тому назад относились к Романовым со страхом и трепетом. Но — дело не в том, что веселые люди хохочут над несчастiем Женщины, а в том, что статейка подписана еврейским Именемъ Iос. Хейсин"[1]. Да, только оболгав, и можно было убить... И вот уже после смерти... Дневниковые записи практиковавшей "брак втроем" "безумной гордячки" Зинаиды Гиппiус 1918 года: "Щупленького офицерика не жаль, конечно [...], он давно был с мертвечинкой..."[2] "Еще слух, что расстреляли и эту безумицу несчастную Александру Федоровну с ее мальчиком. Да и дочерей"[3]. А вот уже после "осмысленiя", в изгнанiи (1923 г.): "Царица никому не нравилась и тогда, давно, когда была юной невестой наследника. Не нравилось ее острое лицо, красивое, но злое и унылое, с тонкими поджатыми губами. Не нравилась немецкая угловатая рослость. [...] Там, при дворе, в сущности, ничего не понимают. Там идет какая–то своя жизнь, со своими большими и маленькими горестями, там свои дела и своя среда... Мещанская? Не знаю, во всяком случае, потрясающе некультурная, невежественная. [...] Ум от природы у нее был, но очень обыкновенный. [...] Но царица все–таки восприняла твердо то малое, что слышала, чему ее учили. [...] Что нет царя, и что едва есть человек — муж, царица безсознательно, чувственно, кошмарно подозревала. В этом было ее напряженное страданiе. Отдать отчет она себе, конечно, не могла, робкая и неумелая в размышленiи, упрямая в том малом, чему ее научили [...] немужественная, робкая, даже трусливая по природе [...] скупая [...] Есть вина, страшная вина, — но кто в ответе? Немой царь, призрак, не существующiй, как сонное марево? Убитая, на куски разрезанная, в лесу сожженная царица?"[4] А вот уже наши дни. И вот до какого бреда договариваются современные ряженые "патрiоты" (все Императорскiе титулы у них, конечно же, как и у "гиппiусихи", со строчной буквы): "...Именно конституцiонных стремленiй молодой императрицы Александры Федоровны опасались больше всего многiе из монархистов, так как она воспитывалась при англiйском дворе, будучи немкой. [...] Отсюда такая нелюбовь Императрицы Апександры Федоровны к духовенству, Русской Церкви [и даже "полное презренiе к ученiю Церкви"!], поддержка политики Царя по утвержденiю парламентского строя в Россiйской Имперiи [...] Отсюда ее отталкиванiе широких, многомиллiонных монархически настроенных русских людей от себя, замкнутый образ жизни и отрешенiе от своего монархического долга беречь и спасать Россiю, Недалекая умом, с непомерным самомненiем [...] При этом [Англiйском] дворе, пронизанном масонским Духомъ снизу доверху, и воспитывалась принцесса Гессен–Дармштадтская, ставшая русской Царицей и оставшаяся протестанткой. [...] Выросшая в тесном придворном кругу, она боялась русской широты, русской громадности, русских просторов и, чувствуя страх перед этой русской необъятностью во всем, она испугалась и замкнулась в привычном для нее маленьком семейном кругу. [...] Царь скрывал... свою семью от глаз людей, так что никто не знал как выглядит наследник и дочери Царя..." И еще, чтобы совсем все стало ясно: "Марков, молодой корнет, прiемный сын генерала Думбадзе, один из немногих, пытавшихся неизвестно зачем [siс!] спасти царскую семью из заточенiя..."[5] Митрополит Нижегородскiй Николай (Кутепов), после канонизацiи на Архiерейском Соборе Царственных мучеников, о Царе мученике: "Видите ли, Он государственный изменник. [...] Практически Он, можно сказать, санкцiонировал развал страны. И в противном меня никто не убедит. [...] Он счел нужным сбежать под юбку Александры Федоровны. Ну, извините!"[6] Вряд ли кто–либо там стал убеждать преставившегося вскоре после обнародованiя таких "откровенiй" высокопоставленного хульника святых. А в том, что за такой публичный безумный цинизм его там "извинили", крепко сомневаюсь. Их оболгали и... убили... И вновь лгут по древнему рецепту: клевещите, клевещите, что–нибудь да останется... У нашего грешного, но все еще недопокаявшегося общества в этом смысле большой опыт. До сих пор (вдумайтесь: до сегодняшнего дня! семьдесят лет мясорубки, а нам все нипочем!) мы — обличенные и даже обреченные! (обреченные при этом быть обличенными Свыше) — мечем комья грязи в тобольского мужика, Друга Тех, Кого Господь милостиво даровал нам прославить, а куски этой грязи, пролетая мимо него, ударяют в ослепительно светлый лик Царственной страдалицы! То–то радуется преисподняя! "Меня лишь поражает страсть, — читаем в отзыве о деятельности одного из таких пачкунов, — с которой некоторые заняты поисками грязи. "Удовольствiе, с каким осуждаем других, означает, что полны мы ненависти", — говорит преп. Ефрем Сирин. Но если вместо заповеданной христiанам любви в сердце обосновалась страсть, ей противоположная, то и здравому, духовному пониманiю взяться неоткуда. Зачем же тогда браться давать духовные советы и ответы, руководить? Наверное, все–таки, лучше прекратить эти поиски грязи..."[7] Или прекратить руководить и давать советы — прибавим мы. Но, однако, что же все это такое? Безумiе? Недомыслiе? Злая воля? А, может быть, синдром "начальника синагоги" (Лк. 13,10–17)? Ведь все это "говорит самолюбiе, сопровождаемое своими неразлучными спутниками: завистью и гневом". Христосъ, через Григорiя, исцеляет, а он ("начальник синагоги") "различает дни". Наконец, Царица... Она слишком чиста. И этот свет, его, "начальника синагоги", слишком уязвляет. Но кинуться на этот явный свет — это значит немедленно и безповоротно обличить себя. И — значит — будем кидать в него, мужика ("кто защитит сироту?"). А через него и в Нее долетит. Эту богопротивную логику и обличает в одной из своих бесед на евангельскiе чтенiя святитель Николай Сербскiй: "Этот самолюбивый начальник синагоги не решается упрекнуть Христа, но упрекает народ. На самом деле в сердце он упрекает лишь Христа, а не народ, но языком говорит иначе. [...] Начальник синагоги не смеет взглянуть в очи Христу и сказать: "Ты виновен!" — но направляет свое жало на весь народ и его упрекает. Можно ли представить лицемерiе более очевидное и подлое?"[8] Только напрасно стараетесь, болезные! К чистому ничего не пристанет. Чистота не перестанет! И не надейтесь! Для чистого же все чисто. Мараете вы, прежде всего, себя, поганя свою безсмертную душу, правда, прельщая иногда (это–то воистину и печально!) и "избранных" — овец стада Христова! Прости, Государыня, не зная Тебя, мы не любили Тебя тогда, как следовало бы, как Ты того заслуживала. Мы не исполнили свой долг. Сегодня, используя наши, порой неловкiе, выраженiя искренней сыновней и дочерней любви к Тебе, новые начальники синагог, духовные потомки мерзавцев и подлецов проклятой памяти семнадцатого года, снова пытаются хлестнуть по Твоему светлому лику перебродившим в жилах их гноем ненависти. Среди этих безумных хулителей (и это воистину знаменательно!) находятся те, кто в ослепленiи своем одновременно поднимает руку на Матерь Господа нашего Iисуса Христа, богохульно именуя древнюю Православную святыню — Ченстоховскую икону Богородицы — "Черной Мадонной" и "Знаменем польского католицизма"[9]. Но Бог, Матерь Его и святые Его поругаемы быть не могут, и все камни их обратятся, в конце концов, на их безумные главы. В свое время выброшенная за рубежом на потеху толпе переписка Царственных мучеников, изданная там с переданных большевиками копiй, подвигла бывшего директора Департамента общих дел Министерства внутренних дел Россiйской Имперiи П. П. Стремоухова взяться за перо. Автор рецензiи на его очерк "Императрица Александра Феодоровна в Ее письмах" особо отмечал: "Было бы кощунством развивать вопрос о реабилитацiи светлого образа страдалицы Государыни, и автор восклицает в молитвенном экстазе: "Царица Александра, моли Бога о нас". В этом уже и теперь чувствуется глубокая правда: Россiя, если ей суждено быть, — неизменно окончит канонизацiей своей изуверски замученной Царской Семьи. Для русского человека путь к духовному воскрешенiю один: покаянiе. И мы вместе с автором верим, что молебны и паломничество в Екатеринбург — вопрос недалекого будущего"[10]. Сказано это было еще весной 1924 года. В том же году другой русскiй изгнанник, оказавшiйся в Трансильванiи, писал в своих "воспоминанiях бывшего человека": "...Пройдут года, а, может быть, и десятки лет, жизнь, хотя и на новых началах, но [1] Горькiй М. Несвоевременные мысли. Заметки о революцiи и культуре. М. 1990. С. 97. [2] Гиппiус Л. Собранiе сочиненiй. Дневники. 1893–1919. М. 2003. С. 437. Запись 6.7.1918. [3] Там же. С. 447.. Запись 22.10.1918. [4] Гиппiус З. Живые лица. Воспоминанiя. Тбилиси. 1991. С. 50,60, 64,75.87. [5] Острецов В. Масонство, культура и исторiя.. М. 1998. С.391,411,414,427. [6] О властях и Церкви Христовой. Митроп. Нижегородскiй и Арзамасскiй Николай заявляет, что не подписывал на Соборе 2000 года акта о канонизацiи Царской Семьи // НГ–религiи. 2001. 25 апреля. С. 4. [7] Суворов А. (Отклик на ст. прот. А.Шаргунова «Г. Распутин: опасность разделенiя в Церкви») // Радонеж. 2003. № 1. С. 15. [8] Святитель Николай Сербскiй (Велимирович). Беседы. М. 2001. С. 401. [9] Благодатный огонь. Православный журнал. 2003. № 10. С. 44,46. [10] Ры(би)нскiй Н. Книги русского горя. // Новое время. № 893. 1924. 17 апреля. С. 3. 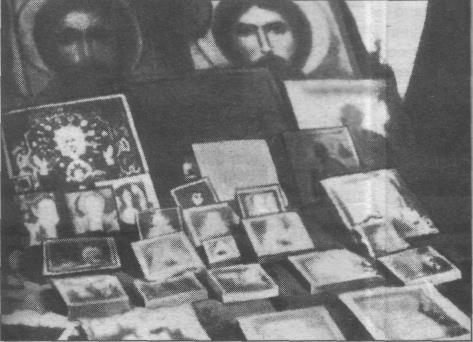 Иконы царской семьи, найденные в Ипатьевском доме после убiйства понемногу наладится; воскреснет запустелое и захудалое творенiе Великого Петра, а на церквах воссiяет опять, ныне униженный и поруганный православный крест; опять заработают и фабрики и заводы, на улицах будет оживленiе, словом, новая жизнь закипит; а по царственной Неве забегают пароходики и моторные катера, и знатные и бедные Богомъольцы будут в минуты скорби и печали искать утешенiя перед Нерукотворенным Ликом Спасителя в домике Царя Великого, а оттуда пробираться в Царскую усыпальницу, дабы перед гробницей убiенного Царя в горячей молитве искупать свои грехи. Но, бродя среди Царских могил, увы, не найдут гробницы несчастного, но чистого душой и помыслами Императора. А там, в преддверiи Сибири, около Шарташского озера потянутся по лесу нескончаемые серые вереницы простого, очухавшегося от свобод и кровавого смрада, народа, чтобы помолиться и поставить свечечку у часовни и креста на месте сожженiя дорогих останков того же Царя и Его невинно замученной, несчастной Семьи, и не только просить, но вымаливать у Создателя вселенной прощенья за то, что не сумели оберечь Помазанника Божiя от страданiй, мученiй и смерти. А в Екатеринбурге грошами того же русского народа, я верю, создастся великолепный храм на месте Их невинного убiенiя и вечные лампадки будут сiять перед Русской Голгофой. И со временем во всех русских церквах на великом славословiи, наравне с именами всея Россiи чудотворцев, мучеников и страстотерпцев, после имен митрополитов Петра, Алексiя, Iоны и Филиппа и Князя Михаила, будет поминаться имя невинно–убiенного Царя мученика Николая II"[1]. Внешне, кажется, все так и свершилось. И прославленiе. И молебны. И паломничество в Екатеринбург. И храм "на крови" построен и освящен. И лампадки горят. Но остался какой–то осадок. Неполноты... Неискренности... Да ведь и покаялись ли?.. И если так, то почему глаза наши не красны от слез?! А слова Императрицы, адресованные некогда А. А. Вырубовой, но обращенные–то ко всем нам: "Вспоминаю... ужасное 17 число и за это тоже страдает Россiя. Все должны страдать за все, что сделали, но никто этого не понимает"? (Напомним: Государыня имела в виду вероломное убiйство в доме князя Юсупова в ночь с 16 на 17 декабря 1916 года Царского Друга.) "Кровь праведников — единственное на земле писанiе, которое стереть невозможно, — предупреждал святитель Николай Сербскiй. — [...] Кровь праведника горит на главах до колена сотого. [...] Лучше погибнуть одному роду злодейскому, нежели одному праведнику. Ибо небо не спрашивает, сколько крови пролито, но спрашивает, чья кровь пролилась. Если все народы восстанут на одного праведника, ничем не повредят ему. Лишь до могилы проводят его, он же будет обличать их по смерти своей. Воистину, милостью своей наказывает праведник до смерти и правдой — после смерти. [...] И не праведник проклянет вас, но дети ваши, когда будут есть горькiй хлеб рабства"[2]. Так с кем же мы? Со святыми ли?.. Или с теми, кто пытается поставить заглушку на народную совесть?..Читаешь воспоминанiя, и, вдруг, словно молнiей пробьет сердце... Царское Село. Лазарет. Великая Княжна Татьяна: "Иной раз поднимет, бывало, голову, пристально посмотрит в глаза и, улыбнувшись, спросит: Не больно? Не больно, — отвечаешь сквозь стиснутые зубы, а боли на самом деле адскiе". И невольно вспоминаешь проклятый Ипатьевскiй подвал... Кто кого спрашивает? Кто кому отвечает? Но только боль, действительно, нестерпима. И остается воистину одно: "Держи ум в подвале Ипатьевского дома и не отчаивайся"![3] Пускай на нас еще лежит вина, — Все искупить и все исправить можно[4]. Сергей ФОМИН.
О высокой духовности Царя Николая II–го. О характеристике современных Царю и Афонской смуте некоторых архiереев.
«Один архiерей сомневался в святости преп. Серафима Саровского из–за его якобы негативного отзыва об архiереях в его пророчестве. «В своей книге о преп. Серафиме (Саровском), «русскiй католик» прот. Всеволод Рошко приводит весьма характерный факт: «Один мой корреспондент писал мне: «Если можно, пришлите какiе–нибудь свидетельства о характере отношенiй преподобного с епископами. Это очень важно, поскольку до наших дней ссылаются (на эти апокрифы). Один православный епископ признался мне, что сомневается в святости преподобного, потому что, как говорят, он выражал мненiя, враждебные епископату». «Архiепископ Виленскiй и Литовскiй (бывшiй Курскiй и Белгородскiй) Хризостом (Мартишкин) высказал удивленiе, почему преп. Серафим негативно относился к русскому епископату» (Прот. Всеволод Рошко.Преподобный Серафим: Саров и Дивеево. Исследованiя и матерiалы. М. 1994. С. 114–115) – С.Ф. («Свете тихiй». М. Паломник. 1996. С. 480). Но о. Серафим к современного ему русскому епископату, относился нормально. А о духовенстве «будущего времени» он сказал то, что было открыто ему Богомъ. О. Серафим сказал пророчество о духовенстве не того времени в которое он жил, но: «будет время, когда архiереи земли русской и прочiе духовные лица уклонятся от сохраненiя Православiя во всей чистоте…» и проч. Значит, он пророчествовал об архiереях нашего предпоследнего времени. Но самолюбiе некоторых гордых архiереев было задето пророческими словами преподобного и они обнаружили себя, поняв его пророчество, как негативное отношенiе о. Серафима, вообще к епископату. «Видя нерешительность Святейшего Синода (совершить канонизацiю преп. Серафима Саровского) Николай II–й начертал: «Немедленно прославить». Правоверный Царь знал: Серафим Саровскiй давно уже прославлен на небесах. И Онъ Самъ принял участiе в торжествах в Сарове и в Дивееве. Тогда Государь получил и пророчество от блаженной старицы Паши Саровской – о рожденiи долгожданного наследника. Через год родился Цесаревич Алексей. В честь этого событiя монахини обители посадили лиственницу. Дерево выросло необычное. Его смола – красного цвета. Кажется, что на стволе капли крови. Таково напоминанiе всем нам. Дерево стоит рядом с канавкой, и ежедневно множество людей проходит здесь по стопочкам Матери Божiей (Русскiй Дом. № 11. 1999. С. 27). «Будучи истинным христiанином Государь Николай Александрович понимал, что осуетившаяся и объязычевшаяся «образованная» Москва нуждается в окормленiи Старца как пастыря высшей ступени опытности, прошедшего молитвенный искус, познавшего духовную брань, стяжавшего дар прозорливости и рассужденiя и поэтому способного руководить паствой. Особое потрясенiе в связи с назначенiем на Москву Старца Макарiя (Невского) претерпел член Синода архiепископ Антонiй (Храповицкiй) – автор двух ересей (крестоборчество и имяборчество), мечтавшiй о патрiаршем кукуле»[5] Известно, что при жизни праведного о. Iоанна Кронштадтского архiепископ Антонiй (Храповицкiй) выступал за запрещенiе публикацiй некоторых его (якобы) «неправославных» сочиненiй, а позднее заявлял, что не допустил бы никакого участiя отца Iоанна, назначенного в 1907 году на должность постоянного члена Святейшего Синода, в делах Синода за его «сомнительное ученiе».[6] Но о. Iоанн Кронштадтскiй хотя и был назначен постоянным членом Синода, но по состоянiю своего здоровья никогда не участвовал ни в каких синодальных делах и заседанiях. Следует упомянуть о другом члене Синода. Митрополит Антонiй (Вадковскiй 1846 – 2.11.1912) первенствующiй член св. Синода ненавидел св. Iоанна Кронштадтского и за это был жестоко наказан от Бога.[7] А те, кто ставил его первенствующим членом Св. Синода – разве не знали, какого он духа? «Смерть его была люта». Он масон и связан был с масонами. Это при нем в Св. Синоде образовалось гнездилище имяборческое из 3–х архiереев: Антонiя (Храповицкого), Никона (Рождественского) и Сергiя (Страгородского) и в добавок, влятельного имяборца С.Троицкого. Как известно, была предпринята попытка учрежденiя Общества для защиты о. Iоанна от клеветы. Среди иницiаторов его созданiя были митрофорные протоiереи Александр Дернов и Философ Орнатскiй, протоiерей Павел Лахотскiй и Петр Миртов, священники Михаил Прудников, Iоанн Орнантскiй и Николай Гронскiй. Проект устава Общества, одобренный св. прав. О. Iоанном Кронштадтским, не был, однако, утвержден митрополитом С.–Петербургским Антонiем (Вадковским)[8]. По словам секретаря «Общества в память о. Iоанна Кронштадтского» Я.В. Ильяшевича (И.К. Сурского, + 23.3.1953), он «завидовал славе о. Iоанна и не любил его. (…). Ненависть митрополита С.–Петербургского Антонiя (Вадковского) к о. Iоанну получила свое яркое выраженiе после блаженной кончины Великого молитвенника Земли Русской и Чудотворца, когда митрополит воспретил служить молебен в церкви–усыпальнице о. Iоанна. Один из друзей моих благочестивый петроградскiй протоiерей рассказывал мне, что очень люта была смерть митрополита Антонiя (Вадковского). У него случился удар, – он лишился зренiя и языка, но все слышал и понимал в теченiе 6 дней»[9] Так вот кто являлся Первенствующим членом Святейшего Синода – ненавистник святого о. Iоанна Кронштадтского, член масонской ложи митрополит Антонiй (Вадковскiй). И это в разгар Афонской смуты, когда он должен был сказать всему составу Синода властное: прекратить распрю и споры и произвести строжайшее расследованiе всего Афонского дела по существу, чего и просили неоднократно у Синода как великой милости и справедливости исповедники афонскiе. Но их голос был «гласом вопiющего в пустыне» и не услышан. И синодалы готовились к развязке афонского дела при помощи трех лжедогматов Посланiя Синода, пожарной кишки, военной силы и обмана Его Императорского Величества Государя Николая II–го. Упомянем и о четвертом члене Синода архiепископе Никоне. Возглавившiй военизированную экспедицiю на Афон епископ Никон (Рождественскiй) именуется в одном из писем Государыни к Государю (от 8 сент. 1915 г.) "этот злодей с Афона",[10] В другом письме к Нему же (от 9 сент. 1915 г.): «у него на душе грех Афона». Есть и другiе основания считать, что «симпатiи» Государя были на стороне «имяславцев».»[11] Вот в чем кроется причина нежеланiя Святейшего Синода, главным воротилой которого являлся имяборец архiеп. Антонiй (Храповицкiй), выполнить предписанiе Государя и снять с имяславцев несправедливые осужденiе и запрещенiя. Митрополиты Кiевскiй Флавiан и Московскiй Макарiй тоже являлись в 1913 году членами Синода. Но они не были причастны к имяборческому гнезду, свитому в Синоде первенствующим членом митроп. Владимиром (Богоявленским), архiепископами Антонiем (Храповицким), Никоном (Рождественским) и Сергiем (Страгородским). Поэтому святители Фливiан и Макарiй не находились в духовном ослепленiи и здраво смотрели на все происходящее на Афоне и в Синоде, и потому вполне оправдали совершенно православное исповеданiе имяславцев Имени Божiя. И когда в пасхальные апрельскiе дни 1914 года обер–прокурор Святейшего Синода В. К. Саблер получил записку, подписанную государем, в которой говорилось: «Душа моя скорбит об Афонских иноках, у которых отнята радость прiобщенiя Святых Тайн... Забудем распрю:[12] не нам судить о Величайшей святыне — Имени Божiемъ, и тем навлекать гнев Господень на Родину; суд следует отменить и всех иноков по примеру митрополита Флавiана разместить по монастырям, возвратить им монашескiй сан и разрешить священнослуженiе»70, ( Первое предписанiе Царя Обер–Прокурору Синода о снятiи с афонцев запрещенiя было от 15 апреля 1914 г. Второе предписанiе «Следует удовлетворить» (прошенiе имяславцев о снятiи с них всех запрещенiй) было от 4 марта 1916 г.), Синодалы воспротивились Царю и не выполнили Его предписанiе полностью, а лишь сделали некоторое послабленiе для имяславцев, которое заключалось в том, что вместо требуемой подписи под Посланiемъ Синода, имяславцы должны были устно засвидетельствовать свое согласiе с ученiем Синода об Имени Божiемъ, с целованiем Креста и Евангелiя. Ретивые имяборцы, наподобiе Василiя Зеленцова бывш. скретаря подотдела Собора 1917–1918 гг. по Афонскому делу, архимандрита Григорiя Цвинтарного, священника Петра Андрiевского, Кипрiана Шахбазяна и им подобных, обвиняли Государя Николая II–го говоря, будто бы он не имел права вмешиваться в дела церковные и настаивать на оправданiи имяславцев, и что будто бы из–за этого оправданiя имяславцев Он и Его Семья поплатились своею жизнью, – но это их духовная слепота и неведенiе. «Предусмотрительно и мудро составлялись исторiей законы Россiйского Государства. Между прочим по ст. 64 Самодержец Всероссiйскiй является Блюстителем Православной Церкви и в минуты опасности на Нем лежит охраненiе Церкви от грозящих ей бед. Подобно матери в суде Соломона, готовой жертвовать всем ради сохраненiя жизни своего ребенка, Г о с у д а р ь И м п е р а т о р, когда пришел час суда Всевышняго, сохранил Церковь Православную от величайшего раскола, на который вели ее те архiепископы, которые в лице Антонiя волынского, Никона и Сергiя финляндского совершенно чужды Церкви своим сердцем и предпочитают видеть Православную Церковь разбитою мечем раскола, нежели сознаться в своей неправоте. Действительно, эти епископы чужды Православiю. Мы видели и слышали архiеп. Антонiя на открытiи дома Русского Собранiя, когда он, увлекшись политиканством вместо слова Божiя, произнес политическую речь, так размахивая св. крестом, что показал в душе своей скрытое к нему неуваженiе; он подтвердил эту отчужденность свою от Православной Церкви и равнодушiе даже к гибели Отечества своими интригами в чужой стране, чуть было не повлекшими на нас тяжелые бедствiя войны, и нужно радоваться, что арх. Антонiя наконец–таки убирают из Волыни, где его присутствiе лишь вредит спокойствiю государства. Не дорога Православная Церковь и Никону, если он с легкою душою, с помощью пожарной кишки и воинской силы, гнал из Православiя тысячи верующих схимонахов. Надо ли говорить о Сергiи, который с такою радостью собирается в гости к женатым англiйским епископам, чтобы позаимствоваться у них сладостями их жизни, и сочувствует пропаганде о слiянiи Православной Церкви с злейшею англиканскою ересью. Все трое поименованных архiепископа отличились яростными гоненiями на малейшее проявленiе истинного религiозного чувства в народе и покровительствовали даже клевете, чтобы загнать в тюрьмы православных проповедников трезвости в народе, последователей жизни праведника отца Iоанна Кронштадтского и почитателей благочестивого монаха Стефана Подгорного, повсюду глубоко возмущая православный люд своими напрасными притесненiями верующих по православному людей. Мало того, узнав, что свыше последовало повеленiе не желательное для них относительно афонских монахов, они не только на словах, но и печатно осмелились выражать угрозы неповиновенiя последовавшим указанiям относительно афонских монахов, и довели дело почти до раскола. Заявленiе Афонского iеросхимонаха Антонiя (Булатовича) с братiею об отложенiи (от общенiя с Всероссiйским Синодом ради сохраненiя в чистоте веры Православной, – Б.К.С) они встретили с удовольствiем, находя себе поддержку в обер–прокуроре В.К.Саблере, которому, как ревнителю сближенiя с англиканством, и по рожденiю пропитанному лютеранством, Православная Церковь, как чуждая, еще менее дорога. Но иначе относится к Церкви Православной Самодержавный Блюститель ея Г о с у д а р ь И м п е р а т о р Н и к о л а й А л е к с а н д р о в и ч. Православная Церковь Ему также дорога, как матери родное дитя, и Он Священною Рукою Своею не допустил архiепископам Антонiю волынскому, Никону и Сергiю финляндскому разорвать завесу церковную. По высочайшему повеленiю, митрополит Макарiй рассудил любовно спор исповедников Имени Божiя с имеборцами и нашел, что никакой разницы у афонских монахов с Православною Церковью Россiйскою в верованiи не существует, даже в догмате о Имени Божiемъ, и пригласил их к миру, который и заключен был общею молитвою, исповеданiем символа веры и целованiем Святого Евангелiя и Креста Господня: церковная завеса осталась в целости и из рук недобрых людей, готовившихся разорвать ее, отобрана. Радуйся же, православный люд! Воздай хвалу Господу за тишину церковную и благодарность Самодержавному Блюстителю Православной Россiйской Церкви за спасенiе от раскола». (С. 1–2). «Суд над афонскими монахами закончился тем, что прибывшiе в Москву 6 афонцев были спрошены митрополитом Макарiем об их верованiи о Имени Божiемъ и признаны исповедующими святость Имени Господня согласно ученiю святых отцов Вселенской Церкви. После сего, митрополит Макарiй послал викарного епископа Модеста в Петербург к остальным, преданным суду, афонским монахам и объявил им, что трех архiепископов, восставших против Имени Божiя, нельзя отожествлять с Святейшим Правительствующим Синодом и потому нет основанiя отказываться от синода и вносить в Православную Церковь разделенiе. С этим вполне согласились iеросхимонах Антонiй (Булатович) и все его единомышленники, целовали святой крест и евангелiе, и мир воцарился в Православной Церкви. Греческiй патрiарх отказывается допустить обратно на Афон увезенных оттуда силою русских монахов, так как монастыри, даже русскiе, приняли подданство греческое и русским монахам, остающимся подданными Русского Царя, пребывать там нельзя. В виду этого, афонским монахам отводится для поселенiя скит Пецунда, близ Нового Афона». («Спасенiе от раскола». Газета «ГРОЗА»,СПб. 31 Мая 1914. С. 6). Царь Николай был обманут Синодом через ложное донесенiе Обер–Прокурора Святейшего Синода Саблера В.К. о том, что будто бы на Афоне завелись революцiонеры, еретики и бунтовщики–антимонархисты, и просили у Царя разрешенiе, для разгрома революцiонного бунта командировать на Афон члена Синода и члена Госсовета архiепископа Никона с войском, на военном судне. Доверившись Святейшему Синоду, Государь дал добро для этого коварного дела.
Отношенiе Царя к афонскому делу. Суд над имяславцами. «По завершенiи расправы над «непокорными» монахами журнал «Русскiй инок» опубликовал заметку под названiем: «Благодарность Государю за освобожденiе Афона от революцiонеров и сектантов», в которой цитировал благодарственную телеграмму архимандрита Пантелеимонова монастыря Мисаила. В адрес императора отец Мисаил, собственноручно уничтожившiй в свое время имяборческiй «Акт о недостопоклоняемости имени "Iисусъ" и подписавшiй имяславское исповеданiе, выражал «усерднейшую благодарность за освобожденiе... монастыря от грозившей ему со стороны революцiонеров и сектантов опасности разоренiя»62.[13] В конце сентября в Алупке Николай II принял наместника Пантелеимонова монастыря iеромонаха Iакинфа и духовника iеромонаха Мелитона. Iеромонахи благодарили государя «за спасенiе от гибели». Царь, в свою очередь, интересовался обстоятельствами происшедших беспорядков и пожелал «чтобы впредь не повторялись такiе печальные событiя»63. Царь все последнее время следил за конфликтом, и командированiе архiепископа Никона, отправка на Афон солдат происходили с санкцiи императора. Желая выслушать обе противостоящiе стороны, в феврале (13 числа) 1914 года Николай II принял в Царском Селе депутацiю из четырех афонских старцев, изгнанных с Афона. Император не вмешивался в развитiе событiй, предоставив решать догматическiе вопросы Синоду. Но уже сам факт высокомилостивого прiема «имябожников» направил ход дел в более благопрiятное для имяславцев русло. Святейшiй Синод назначил членов суда для рассмотренiя Московской Синодальной конторой дела двадцати пяти «имябожников». Начало суда было назначено на первые дни после Фоминой недели. Вследствiе бедственного положенiя изгнанных иноков на родине, в Государственную Думу был подан запрос с просьбой срочно рассмотреть правовое положенiе лиц, утерявших насильственно монашескiй сан. Дума проголосовала против срочности решенiя этого вопроса, и запрос передали в соответствующую комиссiю для подготовки ответа. В связи с подготовкой суда афонскiе иноки предприняли ряд встречных шагов. Святейшему Синоду было направлено «Исповеданiе веры афонских иноков», в котором афонцы просили пересмотра основных богословских положенiй и выводов, сделанных в Посланiи Святейшего Синода от 18 мая 1913 года. Отцы повторяли, что «именуя Имя Божiе и Имя Iисусово Богомъ и Самимъ Богомъ» они чужды «как почитанiя Имени Божiего за сущность Его, так и почитанiя Имени Божiя отдельно от Самого Бога, как какое–то особое Божество, так и обоженiя самих букв и звуков и случайных мыслей о Боге»64. «Ибо несогласiе руководящих тезисов с ученiем Святых Отцев не допускает нас принять вызов на Церковный суд и подчиниться его решенiю»65, — резюмировали отцы–имяславцы. Но Синод настаивал на согласiи с формулировками Посланiя и в случае отказа грозил монахам осужденiем. Таким образом, суд не затрагивал богословских вопросов и превращался в принужденiе к принятiю офицiального мненiя. Отец Антонiй, видя бесплодность дискуссiи со Святейшим Синодом, 25 марта 1914 направляет письмо государю с просьбой о защите. «Суд над нами обставлен так, что он не в силах вынести какого–либо справедливого решенiя по главному догматическому вопросу о том, есть ли Имя Божiе по природе — Бог, или — тварь? Есть ли Имя Божiе — Божественная сила, или нечто не существующее реально? Есть ли Имя Божiе — освящающая в Таинствах Святыня или ничто?»66, — пишет он. Отец Антонiй предлагает создать независимую спецiальную комиссiю из духовных и светских лиц и дать возможность высказаться обеим сторонам. В случае невозможности созыва подобной комиссiи, отец Антонiй просит дать высочайшее повеленiе производить суд, руководствуясь не Синодальнымъ Посланiемъ, а катехизисом, Священным Писанiем и словами Святых Отцов. В завершенiи письма он предостерегает императора и Россiю «от тех бедствiй, на которые наталкивают ее последнiе действiя Святейшего Синода». «Если суд Московской Синодальной Конторы состоится в таком виде, в каком он предположен Святейшим Синодом, — писал iеросхимонах Антонiй, — то это неминуемо доведет догматическiй спор до такого обостренiя, в котором невозможно уже будет примирить мненiя, но возможно будет лишь разделенiе, а к каким дальнейшим бедствiям это приведет Россiю, это ведает один лишь Бог; одно лишь нам известно, что отступленiе от истинных догматов навлекало на страну и на народ великiй гнев Божiй и тяжкiе кары, от коих да избавит Царствiе Господь»67. Император был знаком с Булатовичем лично, отзываясь о нем как о «лихом офицере», в бытность свою ротмистром игравшем значительную роль в русско–эфiопских отношенiях. Возможно, это придало дополнительный вес обращенiю. В 1918 году при разборе в синодальном архиве документов, касающихся дела иноков–исповедников имени Господня, было найдено письмо Николая II митрополиту Московскому Макарiю (Невскому), датированное апрелем 1914 года, с выраженiем благопрiятного мненiя об имяславцах68. Сам святитель Макарiй подошел к этому вопросу с огромной осторожностью и духовным тактом, он «постарался положить конец розни, затянувшейся из–за смутного времени и, отложив окончательное решенiе церковного ученiя об Имени Божiемъ до времени Соборного обсужденiя, внес мир и восстановил справедливость. Святейшiй Синод в лице Высшего Церковного Управленiя запросил письменно старца схiигумена Германа, настоятеля Зосимовой пустыни, дать свое сужденiе об афонских спорах об Имени Iисусовомъ, на что старец отвечал: "Молитва Iисусова есть дело сокровенное, а потому возникшiе разногласiя следовало бы покрыть любовью", — что и выполнил на деле по веленiю своей совести и по послушанiю митрополит Макарiй»69. В пасхальные апрельскiе дни 1914 года обер–прокурор Святейшего Синода В. К. Саблер так же получил записку, подписанную государем, в которой говорилось: «Душа моя скорбит об Афонских иноках, у которых отнята радость прiобщенiя Святых Тайн... Забудем распрю: не нам судить о Величайшей святыне — Имени Божiемъ, и тем навлекать гнев Господень на Родину; суд следует отменить и всех иноков по примеру митрополита Флавiана разместить по монастырям, возвратить им монашескiй сан и разрешить священнослуженiе»70. [1] Болотов А.В. Святые и грешные. Воспоминанiя бывшего человека. Париж. 1924. С. 308–309. [2] Святитель Николай Сербскiй. Молитвы на озере. М. 2002. С. 260–262.е [3] Николаев Г Pro memoa. [4] А.А.Ахматова [5] Газ. «Вечная Жизнь». № 28. Январь. 1997. [6] Церковь и Время. № 3 (12) 2000 г. с. 183. Д. А. Горбунов. [7] «Свете тихiй». М. Паломник. 1996 г. с. 441 – 443 [8] Такое отношенiе митроп. Антонiя не было случайностью. Как известно, владыка сочувствовал обновленчнскому движенiю. Защищал ректора С.–Петербургской духовной академiи и студентов, демонстративно отслуживших панихиду по казненном бунтовщике и изменнике лейтенанте Шмидте. Директор департамента полицiи С.П. Белецкiй (+ 1918), давая показанiя комиссiи временного правительства, сообщил, что в его ведомстве имелась схема одной из масонских организацiй, согласно которой вл. Антонiй был «сторонником освободительных идей Витте, также принадлежал к этой ложе…» (Острецов В.М. Черная сотня. Взгляд справа. М. 1994. С. 28). Исследователь противоположного направленiя приводит другой архивный документ – справку департамента полицiи о деятельности в 1906 – 1907 гг. кружка К.К. Арсеньева: «В кружке этом разрабатывается один из главнейших вопросов масонской программы – вопрос об отделенiи Церкви от государства путем учрежденiя отдельного Патрiаршества». Кружок стремится воздействовать на Императорскiй Двор через А.Д. Оболенского и его брата Кокошу (генерал Свиты Его Императорского Величества князь Николай Дмитрiевич Оболенскiй, состоящiй при вдовствующей Императрице Марiи Федоровне), на Государственную Думу – через (В.И.) Ковалевского, (Е.Н.) Трубецкого, и (Ф) Кокошкина, на Церковь в лице представителя митрополита Антонiя через архимандрита Михаила (выкрест из евреев). Этот кружок через Владимира Ивановича Ковалевского, «корсетницу Окошкину (владелица Вера Александровна Кокушкина)» вел сношенiя с американскими масонскими кружками и через (англичанку) Мари Поле – с англiйскими» (Аврех А.Я. Масоны и революцiя. М. 1990. С. 308). Недаром, конечно, многiе верноподданные архiереи, неоднократно требовали выдворенiя митрополита Антонiя (Вадковского) из Святейшего Синода. О доценте Петербургской академiи архимандрите Михаиле (Семенове), авторе серiи брошюр «Свобода и христiанство», известно, что он впоследствiи перешел в старообрядчество, став епископом, и был убит при крайне загадочных обстоятельствах. [9] Сурскiй И. К. Отец Iоанн Кронштадтскiй. Т. 1–2. М. «Паломник». 1994. С. 118. («Свете тихiй». М. Паломник. 1996. С. 441–443). [10] Рецензiя В.М.Лурье на книгу «На горах Кавказа». [11] Прим. ред. журнала «Царь-Колокол». № 6. М. 1990. С. 38 [12] Боже мой! Возможно ли забыть убиенных мучеников Афонских за Имя Господне в 1913 г. – Издатель. [13] «На горах Кавказа». Изд. 5. СПБ. 2002 г. С. 913. | |
| Просмотров: 271 | Загрузок: 0 | | |
| Всего комментариев: 0 | |


